Утраченный секрет
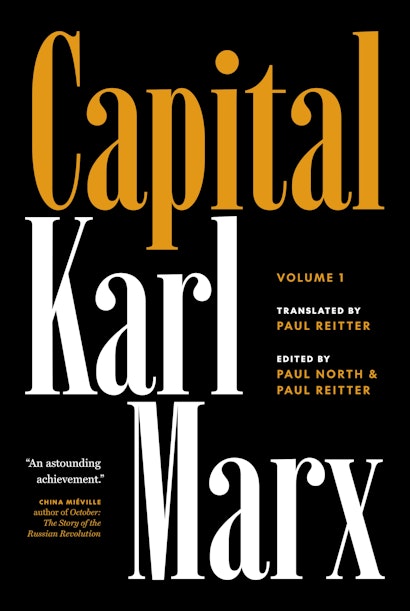
Издательство Принстонского университета выпустило в сентябре новый английский перевод первого тома Капитала Маркса. Редакторы, Пол Рейтер и Пол Норт, сообщают, что этот перевод стал результатом пятилетней работы. В этой заметке я хотел бы задать, как мне кажется, дерзкий вопрос: зачем они это сделали? Зачем нам нужен новый английский перевод первого тома?
Они признают, что существуют отличные английские переводы первого тома, которые легко доступны — они тепло отзываются о переводе, выполненном Беном Фоуксом для Penguin, с которым они тщательно сравнивают другие переводы. Более того, они обсуждают исправления Маркса в оригинале на немецком языке, которые появляются в последнем немецком издании, которое он лично успел просмотреть. Именно это издание стало основой их перевода. Как будто этого недостаточно, они также обсуждают французский перевод Капитала и комментарии Маркса по поводу этого перевода.
Редакторы считают чрезвычайно важным выявить каждую тонкость в книге, как будто в ней скрыты какие-то жизненно важные секреты, зависящие от столь тщательного анализа. Что именно Маркс имел в виду под «отчуждением»? Под «фетишизмом»? Под «эксплуатацией»?
Выясняется, что редакторы гораздо больше озабочены этими оттенками значений, чем сам Маркс. Во французском переводе первого тома он излагает взгляд на проблемы работы за зарплату, который полностью отличается от того, что обсуждается в немецком оригинале и в английском переводе, одобренном самим Марксом.
Как объясняет Уильям Клэр Робертс…
Текст Le Capital утверждает, что производители товаров (т.е. рабочие) находятся под влиянием изменений цен на товары и не способны самостоятельно управлять этими изменениями цен. Иными словами, французское издание утверждает, что производители товаров являются price-takers (теми, кто принимает цены), а не price-makers (теми, кто устанавливает цены), и что изменения относительных уровней цен определяют деятельность производителей товаров в плане покупки, продажи и производства.
То есть рабочие вынуждены переходить с одной работы на другую по мере изменения спроса. Но что в этом такого плохого?
Для Маркса это было крайне плохо, потому что он считал, что бизнесмены эксплуатируют рабочих, чтобы извлечь из них кусочек «прибавочной стоимости». В его теории ценность любого товара определяется общественно необходимым рабочим временем, необходимым для его производства. Это применимо и к труду: ценность труда — это общественно необходимое время, требуемое для «производства» рабочего (т.е. количество часов, необходимых для производства всего, что ему нужно для жизни). Однако рабочий продаёт свою рабочую силу — по сути, самого себя — капиталисту. Маркс видит в капитале и труде фундаментальных антагонистов.
Маркс высмеивал экономистов, которые с ним не соглашались. Моим читателям будет интересным его мнение о Фредерике Бастиа. Как резюмирует Робертс:
Вульгарные экономисты цепляются за “простую видимость”, а классическая политическая экономия “близка к пониманию истинного положения дел”. Для Маркса второе заслуживает критики. Первое же достойно лишь презрения. В “буржуазных” экономистах Маркс усматривает тенденцию овеществлять систему, рассматривать её как естественную и постоянную, приписывая её способности удовлетворять человеческие потребности почти божественное происхождение.
Конечно, ошибался сам Маркс. Он не понял, что существуют универсальные законы человеческой деятельности. Его понимание было значительно ниже уровня Нассау Сениора, которого он высмеивал в качестве типичного «буржуазного» экономиста.
Что касается его насмешек над Бастиа, стоит прислушаться к мудрым словам Людвига фон Мизеса:
Многие экономисты, включая Адама Смита и Бастиа, верили в Бога. Поэтому они восхищались в обнаруженных ими фактах проявлением провидения “великого Директора Природы”. Атеистические критики осуждают их за это отношение. Однако эти критики не понимают, что насмешки над ссылками на “невидимую руку” не опровергают основные положения рационалистической и утилитарной социальной философии. Нужно осознать, что альтернатива такова: либо ассоциация является человеческим процессом, потому что она лучше всего служит целям заинтересованных индивидов, и сами индивиды способны осознавать преимущества, которые они получают благодаря сотрудничеству в обществе. Либо же высшее существо заставляет несогласных людей подчиняться закону и социальным властям. Неважно, как называется это высшее существо — Богом, Мировым Духом, Судьбой, Историей, Вотаном или Производительными Силами — и каким титулом наделяются его апостолы и диктаторы.
Трудовая теория ценности на которую опирался Маркс устарела ещё при его жизни. «Маржиналистская революция», начатая Менгером, Джевонсом и Вальрасом, окончательно показала, что рабочие не эксплуатируются при капитализме; напротив, они получают доход, равный предельному продукту их труда. Для наших целей нет необходимости углубляться в такие сложности, как то, следует ли говорить о дисконтированном предельном доходе или дисконтированной предельной ценности продукта.
Защитники Маркса пытаются оправдать его неспособность обсудить маржиналистскую революцию, утверждая, что работы маржиналистов были написаны в последние годы его жизни, когда от него нельзя было ожидать, что он будет следить за новейшей литературой. На самом деле Маркс прожил до 1883 года и сохранял способность к интеллектуальной работе до самого конца. Он был увлечённым читателем экономической литературы и, фактически, обсуждал Джевонса в других контекстах. Трудно избежать подозрения, что Маркс не упомянул маржиналистов просто потому, что не мог им возразить.
Перевод: Наталия Афончина
Редактор: Владимир Золоторев